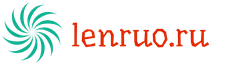Главные советские и постсоветские военные писатели — Стругацкие. Думаю так не только потому, что с шестидесятых по настоящее время они с большим отрывом остаются самыми читаемыми из всей русскоязычной прозы, но и потому, что — почти никогда не изображая войну напрямую — занимались беспрерывным ее осмыслением, изживанием ее опыта. Бесконечные войны в прозе Стругацких — на Сауле, на Саракше, на Земле — больше всего похожи на игры в войну книжных послевоенных детей на ленинградском пустыре 1946 года, среди осколков, воронок и сгоревших бревен.
И тут есть некая закавыка, внутреннее противоречие, неизбежное для большой литературы. Потому что все правильно бывает только в литературе мелкокалиберной. Противоречие это заключается в том, что мало кто ненавидит войну, как Стругацкие, мало кто наговорил столько резкостей о советском милитаризованном сознании, о подчинении всего советского (а в последние годы и российского) социума мобилизационным доктринам и о привычке развязывать войны, чтобы тем вернее все на них списать. Отрицательные герои Стругацких — чаще всего генералы либо представители спецслужб, опять-таки военизированных. А между тем все их положительные герои непрерывно воюют и немыслимы без этого опыта; более того — они родом из войны и могут лишь мечтать о тех прекрасных временах, когда формирование Человека Воспитанного будет возможно без подобных экстремальных инициаций.
Противоречие это, как всегда, трагически осознается прежде всего читателем, а не авторами, для которых собственное мировоззрение как раз логично. Автор ведь не всегда волен в том, что у него написалось, а внутренняя его задача, как правило, непротиворечива. И потому Борис Стругацкий, который ныне героически представительствует за себя и брата, продолжая работать, размышлять и отвечать на вопросы, — внутренне абсолютно последователен, когда сегодня развенчивает военную мифологию. А его поклонники, выросшие на их с братом классической прозе, кричат о своем разочаровании и признаются в блогах — не без публичной экзальтации, естественно, — что АБС для них более не существуют, смотри, какая принципиальность.
Я их не одобряю, конечно. Но понять генезис этих ощущений могу.
Буча началась, когда Борис Стругацкий, отвечая на вопросы «Новой газеты», написал:
«Память о Великой Отечественной стала святыней. Не существует более ни понятия „правда о войне“, ни понятия об „искажении исторической истины“. Есть понятие „оскорбления святыни“. И такое же отношение стремятся создать ко всей истории советского периода. Это уже не история, это, по сути, религия. Библия Войны написана, и апокриф о предателе-генерале Власове в нее внесен. Все. Не вырубишь топором. Но с точки зрения „атеиста“ нет здесь и не может быть ни простоты, ни однозначности. И генерал Власов — сложное явление истории, не проще Иосифа Флавия или Александра Невского; и ветераны — совершенно особая социальная группа, члены которой, как правило, различны между собою в гораздо большей степени, чем сходны».
Эта точка зрения породила такой шквал полемики и взаимных обвинений (не говоря уже про обвинения в адрес самого БНС, опять попавшего в нерв), что понадобилось уточнять понятия. Грех сказать, я и сам поймал себя на некотором — не скажу «непонимании», но внутреннем протесте. Усугубилось это чувство просмотром «Аватара», за рецензию на который мне успело прилететь уже с либеральной стороны. Я там усомнился в добродетельности героя, с такой легкостью перебегающего на чужую сторону от своей, пусть даже во всем неправой. Я впервые задумался о том, каким будет демифологизированное сознание — сознание, которое научится обходиться без мифов. Да, память о войне стала святыней. Да, это мешает выяснить правду. Но что делать обществу, у которого других святынь нет? И может ли оно быть обществом, если у него нет святынь?
Со всем этим я осмелился обратиться к самому Борису Стругацкому. Ответы его по большей части опубликованы (в «Профиле» от 19 апреля).
— Может, миф не так уж страшен? Он лежит как-никак в основе каждой нации...
— На мой взгляд, ничего дурного в мифах нет. Это, по сути, общенародное творчество — тщательно отредактированная тысячами независимых редакторов, отшлифованная тысячами сугубо эмоциональных и личных прикосновений, «беллетризованная» история, так сказать, история рукотворная, тщательно сбалансированная по части сочетания реальных фактов и народной фантазии. В мифе есть выдумка, но нет вранья, что и делает его таким привлекательным и даже значительным. Хуже, когда редактируют, шлифуют и беллетризуют историю хорошо оплачиваемые специалисты по идеологической обработке, занимающиеся этим делом по заданию начальства и в соответствии с указаниями, спущенными сверху. Тогда получается «миф с заранее заданными параметрами», не бескорыстный полет фантазии, а вранье. Собственно и не миф уже, а фальсификация истории. «Освобождение братских народов...», «Подвиг 28 героев-панфиловцев», «Велика Россия, а отступать некуда...», «Жуков — гениальный полководец», «Сталин — еще более гениальный полководец», «Освобождение Европы...». И все, что противоречит этому мифу (архивные документы, свидетельства очевидцев, обыкновенная логика), объявляется очернительством, дегтемазанием и как раз фальсификацией. Это растление истории, эта демагогия, рассчитанная на невежество и абсолютное обнищание духом, преподносится как истина в последней инстанции. Это уже не создание Мифа, это — его огосударствление, «идолизация», превращение в орудие пропаганды.
Великую Отечественную я всегда помню потому, что она была частью моей жизни, притом значительной. Воспринимать ее как святыню я не умею. Я вообще не религиозен.
— Но именно тревога по случаю возможной новой мировой войны породила великие фильмы и романы — фильм Кубрика «На последнем берегу» и вдохновленную им вашу «Далекую радугу».
— «Перчику ему в жизнь! Перчику!..» Это у Чехова, кажется. Нет, я решительно против спецсредств, возбуждающих творческие процессы. Жизнь, ей-богу, и так исполнена всевозможных «стимуляторов» — несчастная любовь, мучения комплекса неполноценности, одиночество, предательства друзей, смерть близких, внезапные успехи, внезапные поражения... Неужели для успешного творчества нужны еще и военные угрозы, войны, власть жлобов, цензура, религиозные страсти? По-моему, никаких разумных аргументов в пользу такого рода неестественностей не существует. Говорят, есть люди, которые скучают без войны, без «ха-арошей драки», без скандалов вообще. Господь с ними. Пусть идут в ОМОН. Или в наемники.
— Есть ли в российской истории события более значимые и более притягательные для вас, нежели ВОВ?
— Сколько угодно. Рождение Пушкина, например. Или освобождение крестьян.
— Вы наверняка знали многих ветеранов — и многих лагерных сидельцев. Что у них общего? Действительно ли ветераны — люди особой породы?
— Я знавал сравнительно немногих ветеранов, но все они, без исключения, были «вояки» — отнюдь не «герои штабов и продскладов», — а те самые, «что поползали»: сержант-минометчик, сержант-артиллерист (оба — из рядовых), капитан пехоты, генерал-майор (начинавший в финскую взводным и кончивший в Тюрингии командиром дивизии)... Очень разные люди, очень разные судьбы, всё очень разное у них, но все как один не любят рассказывать собственно о военных действиях (всё больше о бабах, о выпивке, о трофеях, о столкновениях с начальством), терпеть не могут СМЕРШ, а на прямые вопросы о войне отвечают уклончиво, норовят свернуть на что-нибудь забавное. И зэки бывшие (с ними я встречался меньше) очень в этом на них похожи: ни слова внятного о лагерях и масса забавных баек про лагерное начальство. А уж о крутой ненависти к «органам» и говорить нечего: слова доброго не найдут. «Вояки», пусть изредка, но все-таки отметят какого-нибудь смершевца, что «подлец был большой, но не трус», а зэки — нет, у них ненависть чистая, беспримесная, непрощающая.
— Как вы оцениваете вклад Сталина в Победу? Сегодня многие повторяют, что без него война не была бы выиграна.
— Сталин (и начальство) много сделал для того, чтобы эта война вообще началась, и чтобы началась она сокрушительными поражениями. В 1933-м Сталин приказал немецким коммунистам выступать не против нацистов, а против (ненавистных) социал-демократов. Этот приказ, вне всякого сомнения, способствовал победе Гитлера на выборах и воцарению в Германии нацизма. Сталин совершенно не разобрался в политической ситуации середины тридцатых, не понял, кто главный враг, а кто — возможный союзник, стратегия, которую он избрал, поставила СССР и всю Европу на грань катастрофы. В 1939-м Сталин благословил (договором Молотова―Риббентропа) Гитлера на начало масштабной войны в Европе. В конце тридцатых Сталин уничтожил ВЕСЬ старший командный состав РККА, обусловив этим военный кошмар 1941 года. Сталин бездарно прохлопал начало войны: он намеревался начать ее сам и, по сути, ничего не предпринял для подготовки к немецкому превентивному удару. Сталин сделал все, чтобы кровопускание, учиненное советскому народу, было максимальным. Конечно, он не ставил перед собою такой цели специально. Но средства, к которым он прибегнул (защищая свою жизнь и свою власть прежде всего), были безгранично жестоки и бесчеловечны — он это умел, и он это предпочитал. Народ оказался между двумя жерновами. Впереди — чужаки, оккупанты, фашисты, за спиной — НКВД, СМЕРШ, заградотряды. Создание такой ситуации — заслуга Сталина. Только так он умел расплачиваться за собственные ошибки. «Бабы новых нарожают» — эти слова ему приписывают — вполне возможно, он так говорил. И наверняка он так думал. Завалить трупами дорогу к победе — только так он умел и предпочитал. Война была выиграна, конечно, не вопреки Сталину. Сталин свою роль сыграл — роль тирана, роль безжалостного руководителя, и правы те люди, которые считают, что без главнокомандования Сталина войну, может быть, пришлось бы и проиграть. Да только они не желают помнить, что без главнокомандования Сталина войны и вовсе могло бы не быть, или это была бы совсем другая война — между тоталитарным монстром и союзом демократических государств.
— Самойлов признавался: «Я б хотел быть маркитантом при огромном свежем войске» — при том, что сам был боевым офицером. Вы себя как-то видите на войне?
— Не спрашивайте. С моими очками, с моим прирожденным пацифизмом, с моим отвращением к любому подчинению... «Душераздирающее зрелище».
Казалось бы, все понятно: мировоззрение абсолютно цельное, логичное и ясное. Можно соглашаться, можно спорить, можно даже и негодовать — Борису Стругацкому, думаю, от этого ни холодно, ни жарко. Гуманизм, атеизм, либерализм — вся русская триада, многие годы противостоящая «самодержавию, православию, народности» (заметим кстати, что «народности» противостоит у нас не «индивидуализм», а именно «гуманизм», то есть ненависть к самоцельному мучительству. Индивидуализма нет ни слева, ни справа. Это тема для отдельного большого разговора).
Между тем проза Стругацких далеко не сводится к этому набору «базовой теории». Больше того — она зачастую ему противоречит. Любимый герой Стругацких, что неоднократно признавали они сами, — не либеральный мыслитель Изя Кацман, а перевоспитанный тоталитарий Андрей Воронин. Все их герои — сильные люди с экстремальным опытом. И главный конфликт прозы самих Стругацких (заданный, кстати, еще в «Возвращении» — советском ответе на лемовское «Возвращение со звезд») сводится, на мой взгляд, к противостоянию такого персонажа — назовем его Перевоспитанным Героем — и хорошего человека, сформированного теорией воспитания. Эта теория воспитания, по Стругацким, — главный инструмент новой коммунистической педагогики, алгоритм формирования таких добрых и сильных, как Максим Каммерер.
Эти герои — Перевоспитанные или Воспитанные, или, иными словами, Брутальные и Новые, — встречаются у Стругацких лоб в лоб, в решительном противостоянии. Скажем, в «Глубоком поиске», таком хемингуэевском, где Кондратьев, медный и стальной «памятник героическому прошлому», противостоит слабому, но по-человечески куда более понятному Белову. В «Гадких лебедях» этот конфликт решается уже куда сложней: там человек войны — героический, грязный, добрый Банев — сталкивается со стерильным и беспощадным будущим, очень, кстати, интеллигентным и либеральным. Но это будущее беспощадно, а если вы беспощадны, ребята, то зачем все? Наконец, в «Улитке на склоне» умные и женственные жрицы партеногенеза противостоят одинокому, заросшему и беспомощному Кандиду со скальпелем: грязная современность против чистого будущего, прошедшего не только химическую, но и биологическую, буквальную стерилизацию. Хотят Стругацкие такого будущего? Нет. Их кредо выражает Банев в великих и загадочных последних словах «Гадких лебедей»: «Не забыть бы мне вернуться».
Думаю, такая амбивалентность (мокрецы же хорошие, уж как-нибудь получше Банева со всякой точки зрения) диктовалась отчасти тем, что работали они вдвоем и что при всей духовной близости, интеллектуальном равенстве и кровном родстве отношения в этом тандеме были не безоблачны. Аркадий Натанович был не только на восемь лет старше — он был, так сказать, брутальнее, круче, алкоголизированнее. Правда, Борис Натанович, которого старший соавтор в письмах иронически называл «бледнопухлый брат мой», как раз значительно спортивнее и здоровее в смысле образа жизни, но думаю, что внутренний конфликт имел место, да Стругацкие и не скрывали этого никогда. Я бы определил это как конфликт ветерана с шестидесятником, хемингуэевца с пацифистом, — шестидесятники тянулись к этому миру отцов и старших братьев, но одновременно и отрицали его. Военный опыт выковал великолепную генерацию, в каком-то смысле создал поколение сверхлюдей, это было и остается бесспорным. Вопрос в цене этого опыта, его издержках и альтернативах ему. Поисками этих альтернатив Стругацкие озабочены с самого начала. Но как-то все выходит, что эти альтернативы хуже.
Как-то выходит, что теория воспитания дает сбои, что в идиллическом мире Полдня поселяется Комкон-2, что человека по-прежнему формирует боевой опыт, пусть даже это война на том же Саракше или на Гиганде. Самое страшное противоречие художественной Вселенной Стругацких заключается в том, что хороших людей по-прежнему формирует только война; что именно война является основным занятием этих хороших людей; что больше их взять неоткуда. А сама война при этом — дело срамное и смрадное, и первое побуждение всякого нормального человека — сбежать от нее. И про это «Попытка к бегству». Но сбежать некуда, потому что война будет везде. И тогда Саул Репнин хватает бластер и расстреливает Ход Вещей, которому, конечно, ничего не делается, но нельзя же просто стоять и смотреть, если ты человек.
В это-то все и упирается: «если ты человек». У человека нет другого пути стать человеком, кроме как пройти через пограничный опыт — одному для этого хватает школьной травли, другому нужна война или блокадное детство, третьему необходима миссия на другой планете. Но без этого не обходится. Значит, нужна новая ступень эволюции — что-то, что будет ЗА человеком, после него. И в последней книге трилогии, «Волны гасят ветер», эта новая ступень эволюции появляется. Она называется людены. Проблема в том, что они в колоссальном меньшинстве и что среди людей им места нет. Едва эволюционировав, они обречены улетать.
Люден может избежать конфликта или просто не заметить его. Люден занят другими противостояниями — менее лобовыми и линейными. Людена не интересует самоутверждение — у него все есть с самого начала. Он совершенен. Он не жилец.
А живой, даже самый хороший, в мире Стругацких обречен отправляться на войну. Он может до известного предела сообразовывать свои действия с Базовой Теорией и даже помнить о высокой миссии землянина, но кончается это так, как в повести про Румату Эсторского: «В общем... видно было, где он шел».
В гениальном — думаю, лучшем — фильме Германа, который озвучит же он когда-нибудь, этой резне Руматы посвящена вся адская вторая серия, длинная, но стремительная. И Румата в этой картине похож на святого не тогда, когда честно пытается прогрессорствовать, а тогда, когда мечом прорубает себе дорогу среди сплошного зла, среди его кишок и прочих зловонных внутренностей. Идет и бормочет под нос: «Спроси, где сердце у спрута и есть ли у спрута сердце». Это ощущение липкого зловония охватывает зрителя, доводит до тошноты, душит физически — и тут только война, никакого компромисса, никакого воспитания. Тут детский опыт столкновения с фашизмом, который есть и у Германа, и у Стругацких. Это в крови.
Ненавидеть и презирать войну — как генерал в позднем и слабом романе Хемингуэя — может себе позволить тот, кто ее прошел. У других этого права нет. Это еще одна важная мысль Стругацких — вот почему в знаменитой сцене встречи Банева с детьми Банев прав, а умные дети глупы и неправы. Больше того: самая значимая встреча Воспитанного и Невоспитанного добра происходит у Стругацких в умной и недооцененной повести «Парень из преисподней». Там действует такой бойцовый кот Гаг, элитный гвардеец, которого Корнелий Яшмаа — тоже, кстати, один из «зародышей», см. «Жука», — пытался переделать в землянина и приспособить к миру. Как-то у него не очень это получилось. В «Парне из преисподней» буквально воплощен девиз Банева: «Не забыть бы мне вернуться». Гаг возвращается в свой ад. И повторяет: «Вот я и дома».
Собственно, так и Стругацкие: всякий раз, прикасаясь к теме войны, они возвращаются в свой ад. Им с детства ясно, что войны развязываются подонками; что война — это кровь и грязь, предательство генералов и гекатомбы рядовых. Но почему-то их любимые герои лепятся только из этого материала, который, впрочем, иногда — не слишком равноценно — заменяется космическими опасностями. Ведь природа, если вдуматься, еще бесчеловечней и беспринципней любого генерала (жаль, что этого не понимает Кэмерон. А вдруг понимает?).
«Ты должен сделать добро из зла, потому что больше его не из чего сделать» — эпиграф из Роберта Пенна Уоррена к «Пикнику на обочине», самой страшной книге Стругацких. Страшной не только потому, что там разгуливают ожившие мертвецы, тлеет ведьмин студень и скрипят мутанты. А потому, что она про это самое — про добро из зла и про то, что больше не из чего.
Это не так, неправильно, в это нельзя верить. Но пока этого никто не опроверг.
Есть, однако, некий компромисс — как всегда, эстетический, потому что в последнее время мне вообще все чаще кажется, что спорные и путаные этические категории спущены на Землю специально, чтобы отвлечь человека от главного; чтобы он вечно путался в «человеческом, слишком человеческом» — и в результате отводил взгляд от того, что ценно в действительности.
Александр Секацкий — тоже петербуржец, чья фамилия, думается, неслучайно созвучна веселому имени Стругацких, — ввел термин «воин блеска». От «воина света» или «воина мрака» он принципиально отличается тем, что воюет не за добро и зло, которые часто взаимозаменяемы, а за личное совершенство; воюет с собой и за себя, для достижения той самой высшей эволюционной ступени, которая у Стругацких называется «люденами», а еще раньше — «мутантами». Это тоже война, но подвиги тут заключаются не в убийстве, а в непрерывном и мучительном перерастании себя.
В качестве такого «воина блеска» Секацкий называет мальчишку из рассказа Фолкнера «Полный поворот кругом», гардемарина Хоупа. А мог бы назвать Колдуна из «Обитаемого острова». А мог бы — Г. А. Носова из «Отягощенных злом». И Банева, Банева, разумеется.
Воина света не интересует тьма или свет — его интересует блеск. Его не интересует победа (победы не бывает) — ему, как Кандиду, важно до последнего валить мертвяков. Он, как Саул, будет стрелять в Ход Вещей, зная, что это бесполезно.
Обреченная война — вот тема Стругацких; битва, где против нас — все, и ничего нельзя сделать. Вечеровский из повести «За миллиард лет до конца света» — вот самый убедительный воин блеска. Он ведет войну, но воюет не за генералиссимуса и не за Родину даже, а за природу человека, за человека как такового.
«Бог — в человеке, или его нет нигде», — сказал БНС в интервью 1992 года автору этих строк.
Так военная мифология — и прежде всего мифология Великой Отечественной войны — трансформируется у Стругацких в той же экзистенциальной плоскости, в которой, скажем, мифология чумы у Камю. Или, скажем, мифология партизанской войны у Василя Быкова — лучшего из советских собственно военных писателей.
Так государственная война за страну, власть, строй преобразуется в личную войну за человека.
Стругацкие так претворили опыт Второй мировой в фантастике. Осталось дождаться того, кто сможет столь же убедительно сделать это в книге про реальную Великую Отечественную.
Возможно ли это? Не знаю. Но блокадника Бориса Стругацкого поздравляю с Днем Победы.
Эта статья была написана, закончена и даже показана мэтру, но тут выяснилось, что надо добавить, грубо говоря, человечинки — живых штрихов в разговоре о БНС; и тут же оказалось, что я этого сделать почти не могу по причинам, объясненным в том же знаменитом «Жуке в муравейнике». Помните: «Профессионал, да еще из лучших, наверное, — мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия».
Я не могу удержать Стругацкого не то чтобы в своем темпе, а в спектре восприятия. Он шире. Его способность смотреть на вещи под неприемлемым для меня — и для него — углом значительно превосходит собственные мои способности.
Однажды он мне сказал (не подчеркиваю своей близости к нему, разговор был общий):
— Мы выросли в убеждении, что человек ест, чтобы работать. А что, если это не так?
— Вы серьезно?
— Абсолютно. Это вполне может быть наоборот.
В другой раз он озадачил меня еще больше, сказав, что терпимость проявляется не в отношении к хорошему, а в отношении к неприятному. Надо уметь терпеть неприятное, не отказывая ему в праве на существование. И эта простая на первый взгляд мысль заставила меня пересмотреть большинство моих тогдашних иерархий.
Объективно и полно говорить про Стругацкого может тот, кто умней его, а я таких людей пока не видел. То есть каждый может сказать, что Стругацкий весьма высок ростом (хоть и ниже почти двухметрового брата), широкоплеч, круглоголов, обладает тонким ртом, почти всегда сложенным в едкую ироническую улыбку, и носит сильные толстые очки. Он крайне замкнут, засекречен, живет уединенно, дружит с узким кругом людей, причем весьма неожиданных — это не коллеги-писатели и не коллеги-ученые. Интересы его разнообразны, а память абсолютна. По первому образованию он звездный астроном и неплохо разбирается в астрофизике до сих пор, хотя строго научной фантастики Стругацкие никогда не писали. Кроме того, он один из самых известных и осведомленных филателистов Ленинграда, ныне Петербурга. О всякого рода отпечатках, зубцах и водяных знаках он знает не меньше, чем о звездах, и говорит на эту тему охотнее, чем о литературе, но мало кто способен поддержать такой разговор. Помимо всего этого, он прекрасно осведомлен о компьютерных симуляторах боевых действий и в какую-нибудь танковую войнушку способен рубиться ночь напролет, несмотря на большой жизненный опыт и вообще взрослость.
Но все эти вещи, сугубо внешние, ничего в Стругацком не приоткроют. Отношение же его к ближнему кругу, и прежде всего к ученикам, являет собою загадку или по крайней мере противоречие: внешне это отношение очень корректное, но прохладное. Внутри под этой корректностью тлеет жар, как под золой, потому что Стругацкий очень любит талант во всех его проявлениях и с горячей заинтересованностью следит за всеми, кого заприметил. Но любовь имеет характер требовательный и стимулирующий, внешне никак не проявляющийся: Стругацкий умеет требовать с тех, кого любит, и сроду ни с кем не сюсюкал. Все это с редкой откровенностью и даже самоедством описано в «Бессильных мира сего» — вероятно, самом откровенном его романе. Там много страшных сцен, больше, пожалуй, чем даже в «Пикнике», и есть довольно рискованная идея: без прямого насилия над человеческой личностью — насилия иногда самого буквального, с применением пыточного арсенала, — Человека Воспитанного не получишь. Потому что если человек не движется вперед — он не стоит на месте, а откатывается назад. Его тащит вниз Проклятая Свинья Жизни.
Так что с учениками Стругацкий, подобно своему Агре, не только жЁсток, но при необходимости и жестОк. Иначе из Бориса Штерна, Вячеслава Рыбакова, Андрея Измайлова и двух десятков других ничего особенного бы не вышло. А из них вышло превосходное поколение, у которого уже мы, рожденные в конце шестидесятых — начале семидесятых, научились понимать, что к чему.
Мне кажется, Стругацкого сформировал эпизод, описанный в «Поиске предназначения» — великом автобиографическом (по крайней мере в первых главах) романе. Там мальчика во время блокады преследует людоед. Сильно подозреваю, что все это так и было. Людоеда потом случайно убил осколок, и мальчик смог спрятаться в родном подъезде. И еще на него сильно повлиял эпизод, рассказанный однажды в онлайновом интервью: там он самой вкусной вещью в своей жизни назвал ледяной каменный мятный пряник, полученный на новый, 1942 год.
Во-первых, война с ее кошмаром объяснила Борису Стругацкому, что может быть все. Такие вещи, которых он насмотрелся в блокадном Ленинграде, сильно раздвигают границы воображения.
Во-вторых, война доказала ему, что любое выживание есть чудо, а стало быть, свидетельство о призвании. И одна из главных тем Стругацких — может ли человек это свое призвание отменить? (Об этом же, кстати, лемовская «Маска», и Лем тоже человек со страшным военным опытом — не фронтовым, оккупационным). Стругацкий полагает, что отменить его нельзя, и потому надо его а) расчистить и б) следовать. Пока следуешь — будешь храним, потому что нужен. Это истинно военный императив, в мирном мире такого не сформулируешь.
И в-третьих, война научила его тому абсолютному минимализму в смысле потребностей, той фантастической стальной выносливости, которая делает воином блеска и его самого. Это позволяет ему не отвлекаться на болезни и возраст и ежедневно, хоть небольшими порциями, писать — делать то главное, что он умеет лучше всего. Никто и никогда не знает, что он пишет. Все понимают только, что он пишет самое главное из всего, могущего быть написанным сегодня.
Не знаю, что еще про него сказать. А, вспомнил! Он живет на проспекте Победы.

Юра#Быков#не уходи

Покаяние режиссера

страничка Быкова ВКонтакте
Юра#Быков#не уходи
Но в чем же кается режиссер? По сути, в том, что не оправдал надежд либералов: не то снял кино. Причем сначала он и не понял, что не то! После выхода первой серии он пришел в «Вечерний Ургант», был весел и бодр, да и имел на это, собственно, право: фильм-то хороший. Но через день-другой сетевые хомячки ему объяснили: фигню ты снял, Быков. Редиска ты. Ведь кино твое оправдывает режим! Ты плохой, не так думаешь, не так видишь и вообще.
И режиссер Быков впал в тоску смертную, написал покаянное письмо, где буквально расчленил себя на кусочки: и слабый он, и сомневающийся, и излишне мягок. «Я не могу сказать, что не понимал, на что иду, но, видимо, не до конца осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале», - заявил Юрий Анатольевич. И, порвав на себе рубище и посыпав голову пеплом, объявил об уходе в «тень».
Странная история. Быков – режиссер острый, неудобный, автор ярчайших и, кстати, для «режима» крайне неудобных лент, стоит вспомнить хотя бы «Майора» или «Дурака». Но тут… Мы будто разные с ним фильмы смотрели. Ничего такого-этакого в его «Спящих» нет. Но – плачет Быков – «лучшие умы отвернулись от него». «Огласите весь список, пожалуйста!» - хочется крикнуть ответно с галерки. И кто эти люди, лучшие умы? Не те ли, кто, дай волю, запретили бы и «ТАСС уполномочен заявить» - лишь потому, что там нарисован вполне позитивный образ нашего разведчика и вполне позитивная советская страна.
Жаль, мягкотел, действительно, Юрий Анатольевич. Или испугался либерального гнева? Или того, что не дадут шенгенской визы? А там и рады. Ведь правильным, с либеральной точки зрения, может быть лишь одна позиция. Хотя в данном случае надо обладать удивительно искаженным восприятием действительности, чтобы углядеть в сериале осанну режиму – любому. Впрочем, в «Иронии судьбы» тоже можно увидеть разное: от истории любви до истории разврата на почве бытового пьянства. Было бы желание, как говорится, углядеть фигу.
В сети поклонники Быкова уже предложили завести хештэг «ЮраНеУходи». Надеюсь, он и правда не уйдет. Потому что нет в этом никакого смысла, да и нет никакого смысла в том, чтобы лить воду на мельницу тех, кто готов использовать любой повод для раскачивания лодки и стравливания. Горько, что это так, но что поделать.
А Быкову хочется сказать – нет, не уходи, Юра. Нельзя нравиться всем, это правда. Но хлопать дверью потому, что кто-то состроил кривую рожицу – как минимум глупо. Не уходи, Юра! Да и сериал неплохой, чес-слово.





«Либеральному Ежову» не нужны «тройки» - вся масса «прогрессивного поколения», этой агрессивной школоты и заслуженных американских грантоедов – и есть «коллективная тройка». Режиссёр Быков вовремя «разоружился перед партией». Теперь его, возможно, не заклюют. А вы знаете, у нас тут 1937 год наступил! Да-да, все приметы налицо. Нет, массовых репрессий нет. Нет, «кровавый режЫм» новый ГУЛАГ не создал. Нет, «тройки» не свирепствуют. А почему же, в таком случае, нет сомнений, что мы вернулись на 80 лет назад? А потому, что режиссёр Юрий Быков, в лучших традициях «разоружения перед партией» посыпался пеплом, замотался во вретище и распростёрся ниц перед «прогрессивной общественностью», моля хотя бы посмертно простить его за сериал «Спящие». «Я слабый, сомневающийся человек…»,
«До конца не осознавал, насколько…»,
«Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале»,
«Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение»,
«после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придётся уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир».
Повеяло, ах, как повеяло славными теми годами! Письмом Якира Сталину: «Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной честной работе на виду партии, её руководителей - потом провал в кошмар, в непоправимый ужас предательства… Следствие закончено. Мне предъявлено обвинение в государственной измене, я признал свою вину, я полностью раскаялся. Я верю безгранично в правоту и целесообразность решения суда и правительства…».
Покаянными речами на московских процессах! Сериал «Спящие», если кто не в курсе – про то, как американцы агентиков в Россию заслали, и те ждали отмашки на организацию Майдана. Согласитесь, возмутительный сериальчик! Такой посмотришь – и на площадь в назначенный час передумаешь выходить, а «люди всё-таки должны протестовать».
И вот те, кого сериал бил не в бровь, а в глаз, устроили Быкову за «Спящих» такую обструкцию, такую травлю, такое «низведение и курощение», что Быков почёл за лучшее спрятаться под шконку и не отсвечивать. «Не раздражать собой окружающий мир ».
Предварительно сделав три раза «ку» и принеся с собой собственные мыло и верёвку. На прощение сильно не надеясь, но хотя бы стремясь вымолить снижение категории пыток. Как в стихотворении Всеволода Емелина: И глядя на родные лица
Я осознал всем существом,
Что мне пора разоружиться
Перед народным большинством.
Потому что «родные лица» были настолько суровы, беспощадны и кровожадны, что «осознание всем существом» пришло само собой, рефлекторно. И вот теперь – ужасный, поистине страшный вопрос: да неужели же «ОНИ», эта свора, эта шобла, эта клика, ТАК сильны, так устрашающи, так влиятельны в сегодняшней России?! Я не знаю ответа. А Быков – кажется, знает. И, возвращаясь к 1937 году и его стилю, а кто же у нас тут «Ежов»? Перед кем рефлекторно писаются в штаны? И получается парадоксальный, ошеломляющий вывод: да либералы же! Вот эти, которые «прогрессивное поколение». Которые рукопожатные, с хорошими лицами и оппозиционными лозунгами. Вот они – и есть «коллективный Ежов», который карает, прессует, предаёт остракизму, не подаёт руки, плюёт на ботинок и шипит в спину. А при случае – без колебаний подписывает «Письмо 42-х» с требованием «раздавить гадину». «Либеральному Ежову» не нужны «тройки» - вся масса «прогрессивного поколения», этой агрессивной школоты и заслуженных американских грантоедов – и есть «коллективная тройка», которая с огромным наслаждением и судит, и карает. Стремясь показать, «кто тут власть ». Но, простите, а кто же тогда наша власть, которую давно записали в «кровавый режЫм», «продолжателей дела Сталина», «авторитарные тоталитаристы» и прочие «душители свобод»? Получается, что только она-то и спасает нас – общество – от того террора, который готовы устроить, искореняя всякое нелиберальное инакомыслие, наши «прогрессисты», захвати они власть? Выходит, так. А как иначе понимать всё происходящее? Случай с Быковым настолько абсурден, что мог бы показаться тонким троллингом – но нет, это не троллинг
. Человек действительно «расплакался на партсобрании». Потому что слишком хорошо знает нетерпимые воззрения своих «родных и близких» - проглотят и не поморщатся. Ещё и облизнутся. Как так получилось, что за влиятельную часть общественного мнения отвечают откровенные враги России – затыкающие рот каждому, кто попробует их так назвать публично? На этот вопрос надо ответить не словами, а делом. Слова против «либерального Ежова» бессильны. «Новый 37-й» не пройдёт!Либеральная инквизиция затравила режиссёра Юрия Быкова
за сериал «Спящие»
Уже несколько лет радуют зрителей своим искрометным юмором и курьезными жизненными ситуациями, которые происходят с ними на каждом шагу. Неподражаемый доктор Быков, хитрый Купитман, очаровательная главврач больницы Анатасия Кисегач, скромная Варя Черноус и другие интерны в каждой серии преподносят нам немало сюрпризов. Каким же будет новый 8 сезон "Интернов"?
25 января стартовали новые серии о приключениях в больнице, на данный момент к просмотру доступны 5 серий 8 сезона "Интернов", а 6-ая выйдет уже совсем скоро - 22 февраля. Как известно, большинство историй сериала основаны на реальных событиях, а в качестве консультантов выступают настоящие врачи.
Главврач больницы неожиданно узнает радостную новость, что она скоро станет мамой
Пожалуй, главной и самой неожиданной новостью в 8 сезоне "Интернов" окажется беременность Кисегач : как вы помните, доктор Быков и главврач клиники испытывают друг к другу страстные чувства, а от большой любви рождаются дети. Но пережить "радостную" новость Быкову будет непросто, это едва не обернется трагедией...

Доктор Быков впадает в кому
Узнав, что он скоро станет отцом, доктор Быков буквально сходит с ума. Радостное известие ждет еще одного героя сериала "Интерны" - Семена Лобанова. Его супруга Ольга, с которой он в прошлом оформил развод и снова сошелся, тоже беременна. Вот только кто же является реальным отцом ребенка - он или его "конкурент" Фил, с которым Оля встречалась некоторое время? Ответ на этот вопрос Лобанову предстоит узнать не сразу. А как же Варя Черноус в исполнении актрисы , которая в прошлом безумно тосковала по своему коллеге Глебу Романенко?

Бывшая жена Семена Лобавнова Ольга тоже приподнесла ему сюрприз
В новых сериях "Интернов" скромная Варя бросается в омут любовных приключений с новым анестезиологом по имени Давид. Кажется, что красавец с экзотическим именем тоже не против закрутить роман с молодой и скромной девушкой, только его пути встает медсестра Люба, давно известная своим неравнодушным отношением к мужчинам. Оказывается, что Любовь тоже давно мечтает провести вечер в компании Давида, поэтому двум героиням сериала "Интерны" прийдется делить его внимание. Чтобы навсегда влюбить в себя анестезиолога, Варе Черноус нужно будет приложить немало усилий и использовать разные женские хитрости.

Чтобы обольстить Давида, Варе прийдется сильно постараться
Небольшая любовная история в новом 8 сезоне сериала "Интерны" будет связана и с харизматичным героем по фамилии Купитман. Хитрому венерологу с еврейскими корнями предстоит пережить встречи со своими бывшими женщинами, в том числе официальной супругой. Кроме того, Ивану Натановичу приходит в голову мысль переманить себе интернов. Получится ли это у него и как отреагирует на неожиданную новость доктор Быков, мы узнаем уже совсем скоро. Съемки новых серий 8 сезона "Интернов" сейчас в процессе и будут выходить постепенно.
11 апреля 1979 года возле посёлка Дымер. что под Киевом разбился актер и режиссер Леонид Быков.
1 апреля 1979 года папа решил съездить в село Страхолесье Чернобыльского района, чтобы посмотреть, не затопило ли нашу дачу, и заплатить за нее, - рассказывала следователю через несколько дней после гибели отца Марьяна Быкова. - Уезжая, папа сказал, что домой возвратится вечером, но если будет сажать лук, то может задержаться до утра.
Погода в тот день была пасмурной, и для занятий сельхозработами не очень подходила, поэтому Быков решил вернуться домой пораньше. На 46-м километре трассы Киев--Минск, в двух километрах от пгт Дымер Киевской области, двадцать четвертая «Волга» Леонида Быкова догнала трактор МТЗ-50 (»Беларусь»), который ехал со скоростью около 20 километров в час. За его рулем сидел житель поселка Каменка Вышгородского района Сергей Ковальчук.
Навстречу трактору и «Волге» двигались грузовик (ГАЗ-53), управляемый водителем одной из автоколонн «Киевводстроя» (фамилия не указана, исходя из этических соображений. - Авт.), и УАЗ-469, в котором находились водитель Иван Красий и пассажиры - директор Дымерского лесхоза Владимир Кислый и главный лесничий Василий Шестопал. Когда трактор и грузовик поравнялись, «Волга» совершенно неожиданно буквально вылетела на полосу встречного движения, развернулась и врезалась правым боком в грузовик. Случилось это примерно в 16 часов 30 минут. Удар был такой силы, что грузовик проломил правую стойку «Волги» и врезался передними колесами в салон.
Я ехал в село Катюжанка, где расположена контора лесхоза, - вспоминает Иван Красий. - Погода была неважная, дождик слегка моросил, асфальт был мокрый. Директор лесхоза быструю езду не любит, поэтому наша скорость не превышала 60--70 километров в час. Когда миновали Дымер, нас обогнал груженый стекловатой новый бортовой ГАЗ. Он постепенно удалялся, и тут впереди, метрах в трехстах, появился трактор «Беларусь», за которым ехала белая «Волга». Я внимательно смотрел на дорогу и все происшедшее запомнил на всю жизнь. «Волга» выехала из-за трактора на половину корпуса, а потом неожиданно присела на передний мост и пошла юзом на встречную полосу. «Что он делает?!» - успел подумать я. В этот момент раздался удар и, как в кино, над грузовиком разлетелись какие-то брызги. Я уже потом сообразил, что это были осколки стекол легковушки.
Несмотря на огромное количество публикаций о гибели известного украинского актера и кинорежиссера, произошедшей 11 апреля 1979 года, до сих пор оставались невыясненными многие обстоятельства автокатастрофы
Многие убеждены в том, что народного любимца убили, некоторые, ссылаясь на «Завещание» Леонида Быкова, написанное в 1976 году, утверждают, что он покончил с собой. А кое-кто, многозначительно кивая в сторону «компетентных органов», заявляет, что авария… была подстроена. По версии одного из московских изданий, «Быков возвращался на своей машине с дачи под Киевом. Впереди него двигался асфальтировочный каток, и Быков решил его объехать. Однако, как только он стал осуществлять обгон, ему навстречу выскочил грузовик. Чтобы избежать лобового столкновения, Л. Быков вывернул руль в сторону и на всей скорости врезался в каток». Чтобы выяснить, как погиб Леонид Быков, корреспондент «ФАКТОВ» отправился в Вышгородский район, где произошла автокатастрофа.
«Раздался удар, и над грузовиком взлетели стеклянные брызги»
Я ехал в село Катюжанка, где расположена контора лесхоза, - вспоминает Иван Красий. - Погода была неважная, дождик слегка моросил, асфальт был мокрый. Директор лесхоза быструю езду не любит, поэтому наша скорость не превышала 60--70 километров в час. Когда миновали Дымер, нас обогнал груженый стекловатой новый бортовой ГАЗ. Он постепенно удалялся, и тут впереди, метрах в трехстах, появился трактор «Беларусь», за которым ехала белая «Волга». Я внимательно смотрел на дорогу и все происшедшее запомнил на всю жизнь. «Волга» выехала из-за трактора на половину корпуса, а потом неожиданно присела на передний мост и пошла юзом на встречную полосу. «Что он делает?!» - успел подумать я. В этот момент раздался удар и, как в кино, над грузовиком разлетелись какие-то брызги. Я уже потом сообразил, что это были осколки стекол легковушки.
Перепуганный насмерть водитель грузовика даже не успел затормозить. ГАЗ больше десяти метров протащил перед собой «Волгу», пока не остановился. Тягу акселератора от удара повело, и двигатель грузовика взревел, как раненый зверь. Повергнутый в ужас водитель грузовика выскочил из кабины и побежал куда глаза глядят. Через некоторое время он пришел в себя и вернулся к своему автомобилю.
Я подбежал к «Волге» с левой стороны, - продолжает Красий. - Дверь была распахнута, водитель висел на ремне безопасности. «Нож принеси! Обрежем!» - крикнул мне Шестопал. Пробегая мимо грузовика, я хотел заглушить двигатель, но ключа на месте не оказалось. Взял нож и ключ зажигания от своего УАЗа. Сначала заглушил двигатель грузовика, а затем подскочил к «Волге». Вместе с Шестопалом мы перерезали ремень, осторожно извлекли водителя и положили на траву. По его телу прошла судорога, и он затих. Из уха вытекло что-то белое, похожее на молоко…
Узнав, кто нашел свою смерть в салоне «Волги», водитель грузовика закрыл лицо руками и зарыдал
Сергей Ковальчук возвращался на тракторе домой. Время происшествия хорошо запомнил, потому что был конец рабочего дня и он посмотрел на часы, чтобы убедиться, что не нарушает трудовую дисциплину. Кстати, Сергей Николаевич и сегодня работает трактористом в лесхозе. После гибели Быкова он поменял два трактора, и сейчас у него сравнительно новый - «Беларусь» МТЗ-80. Чтобы встретиться с Ковальчуком, корреспонденту «ФАКТОВ» пришлось около часа поколесить на «Жигулях» по лесу. Хорошо, что вызвавшийся помочь Иван Красий знал здешние места как свои пять пальцев и вывел на тракториста.
Поравнявшись с грузовиком, я услышал сзади мощный глухой удар, - рассказывает Сергей Ковальчук. - Оглянулся и увидел, как грузовик тащит впереди себя «Волгу». Я тут же съехал на обочину и остановился. Когда водителя легковушки уложили на траву, Шестопал пощупал пульс на его руке - сердце не билось. Мы нашли в «Волге» одеяло и накрыли им покойного.
В этот момент никто из участников ДТП не знал, кто сидел за рулем разбитой вдребезги «Волги».
Какой-то небритый мужик, но лицо знакомое, - вспоминает Иван Красий. - Я еще подумал, что где-то на стоянке его видел.
К месту происшествия прибыла оперативно-следственная группа Вышгородского РОВД и инспектор Дымерского ГАИ Анатолий Волынец. вместе с бригадой Вышгородской станции скорой помощи.
Когда к зданию ГАИ подъехал легковой автомобиль и водитель сказал, что на трассе очень серьезная авария и кто-то погиб, я позвонил в Вышгородский райотдел милиции, попросил выслать опергруппу, а сам отправился к месту происшествия, - вспоминает Анатолий Волынец (ныне он работает водителем скорой помощи. - Авт.) - Вместе со следователем прокуратуры допросили водителя грузовика. Ему в ту пору было 23 года. Парня так сильно трясло, что зубы у него стучали. Мы его еле успокоили. Он ведь еще переживал из-за того, что права дома забыл. По словам водителя грузовика, «Волга» так резко выскочила на его полосу, что он даже не понял, что произошло. Когда все необходимые действия по документированию ДТП были выполнены, следователь достал из кармана черной нейлоновой куртки покойного права и удивленно воскликнул: «Да ведь это Леонид Быков! Артист!»
Узнав, кто нашел свою смерть в салоне «Волги», водитель грузовика закрыл лицо руками и громко зарыдал. Красий заглянул в права и удивился: на фото Быков был точно таким, как в фильме «В бой идут одни «старики». Один из инспекторов пролистал права и сказал, что у Быкова было две просечки за нарушение правил обгона. «Не повезло человеку, - посетовал кто-то из стражей правопорядка, - в третий раз сам себя наказал».
Кто же виноват в гибели Леонида Быкова и, может, правы те, кто утверждает, будто перед аварией у него случился инфаркт?
Отец перенес инфаркт в 1976 году и два месяца находился в больнице, - рассказывала следователю Марьяна Быкова. - В 1973 году, когда снимался фильм «В бой идут одни «старики», он тоже очень плохо себя чувствовал, и, как определили потом врачи, перенес на ногах микроинфаркт. Примерно за месяц до автокатастрофы у папы болело сердце, и мы вызывали скорую. Автомобиль папа водил уверенно, спиртного не употреблял совсем.
Судебно-автотехническая экспертиза установила, что рулевое управление и тормозные системы автомобилей ГАЗ-53 и ГАЗ-24 на момент аварии были исправными. Водитель грузовика «не имел технической возможности путем применения экстренного торможения предотвратить столкновение». Быков, прежде чем начать обгон, «должен был убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном расстоянии и что этим маневром он не создаст помехи другим транспортным средствам и пешеходам».
Леонид Быков, увидев двигающийся навстречу грузовик и намереваясь его пропустить, стал тормозить, но его автомобиль пошел юзом на полосу встречного движения и через 22 метра столкнулся с ГАЗ-53. Эксперты пришли к выводу, что ДТП «наступило вследствие грубой небрежности самого потерпевшего при отсутствии вины со стороны водителя автомобиля ГАЗ-53». С выводом экспертов согласны и свидетели аварии, с которыми беседовал корреспондент «ФАКТОВ».
Даже если у Быкова случился инфаркт, то не это стало причиной ДТП, - уверен Анатолий Волынец. - Он тормозил до самого конца. Об этом красноречиво свидетельствовали следы шин на асфальте.
Когда Быков погиб, я думал, что сюда народу понаедет, вопросами замучат, - с горечью вспоминает Волынец. - Однако этого не произошло. Однажды я стоял на контрольном пункте и тормознул попутку, чтобы добраться до дома. За рулем сидел киноактер Николай Олялин, я его сразу узнал. Он ехал на дачу. По пути разговорились, я ему место смерти Быкова показал. Через несколько лет приезжали представители киностудии им. Довженко. Я им также это место показывал. А потом лет на пятнадцать тишина установилась. Ковальчука и Красия тоже никто не спрашивал, где погиб Быков. Обидно, конечно, что так и будет теперь памятник стоять не на своем месте…
Дмитрий Быков наблюдал за победой российской сборной по футболу над испанцами в столице испанской Каталонии Барселоне
Теперь я понял, где лучше всего наблюдать российские победы — спортивные, конечно, потому что в остальных случаях это рискованно. Надо наблюдать их не на Никольской или Тверской, где гудит грозный праздник с хоровыми криками и стихийными братаниями, а в сердце проигравшей стороны. Здесь можно наблюдать великодушие победителя. Не знаю, как в остальной Испании, но в нашем районе Барселоны, где я оказался в командировке от издательства АСТ, во всех барах и кабаках пили за наш счет. Не только за наш победный счет 5:4, но и за счет российских гостей, чья внезапная щедрость так же поразила испанцев, как иностранных гостей Москвы поражает размах подготовки к мундиалю.
Массовых гуляний с флагами при мне не было, хотя с флажками ходили многие. Но траура, о котором пишут некоторые фейсбучные друзья, я среди каталонцев тоже не наблюдал. Состояние, в которое впали испанские болельщики, — то есть практически все мирные граждане, поскольку равнодушных не было, — правильнее будет оценить как почтительную озадаченность. О нет, они не искали подвоха, в отличие от наших скептиков. Никому и в голову не приходила кощунственная мысль о подкупе, договорном матче, взятках ФИФА или договоренности Путина с судьей — они и понятия не имеют о том, как гипнотически действует на судей самый звук кремлевского звонка. Отчасти, наверное, это было похоже на чувства наполеоновской армии, на которую, по Толстому, «была наложена рука сильнейшего духом противника». Тут было что-то иное, весьма свойственное испанцам вообще и каталонцам в особенности: рука — или, что стало уже новым мемом, нога — самого Провидения. Они никогда еще со времен гражданской войны, когда нации тоже не очень повезло, не видели столь наглядного действия Божьей воли. И, пораженные этим действием, они испытывали не подавленность, нет, а священный испуг и глубокую почтительность.
Для полноты картины я смотрел матч в двух кафе — в семейной кондитерской, где действительно болели семьями, со стариками и детьми, и в настоящем спортивном баре, где догонялись пивом. Против всех ожиданий, в кондитерской орали больше. Это были болельщики-дилетанты, которых любой опасный момент заставлял вскакивать и аплодировать. Но после странного и раннего автогола они посматривали на русских — легко опознаваемых по флажкам на щеках — с недоумением и некоторым чувством вины: бывает, мы не хотели... И Рамос, от чьей ноги мяч попал к Игнашевичу и от него в ворота, тоже, кажется, не хотел. То есть он явно хотел, но не так же.
Со сходным недоумением и опять-таки чувством вины они смотрели уже на пенальти, назначенный арбитром Куйперсом в ворота де Хеа после игры рукой Жерара Пике. Строго говоря, Пике рукой не играл. Он коснулся мяча рукой чисто случайно, разве что у него был глаз на этой руке. Но ничего не поделаешь — мяч изменил направление. Вероятно, это был самый спорный пенальти за всю одну восьмую, но судья — фигура сакральная, во всяком случае для испанцев. И Дзюба подошел, и Дзюба пробил.
С этого момента началось то, что на футбольном жаргоне называется «автобус», и к этому спортивный бар — где я смотрел второй тайм и два дополнительных — уже готов не был. Поэтому они наблюдали за игрой в благоговейном молчании, примерно в таком же, в каком зрители Олимпиады в Сиднее (2000) наблюдали заплыв пловца из Экваториальной Гвинеи Эрика Муссамбани Малонги. Это была стометровка вольным стилем, на которой он показал худший результат в истории олимпиад. Соперников у него не было — двоих сняли из-за фальстарта. Он научился плавать за восемь месяцев до начала Олимпиады. Он плыл не вольным, а каким-то сугубо личным, экваториальным стилем. Это был его первый заплыв в 50-метровом бассейне. На Олимпиаду он попал благодаря квоте для развивающихся стран. Но все-таки он доплыл. И стал героем. Это был не плохой заплыв — это был особенный, единственный в своем роде заплыв, когда никто не улюлюкал, а некоторые плакали от умиления.
Так и тут — это не был плохой футбол. Это был другой футбол, в своем роде героический — недаром и участники, и зрители так часто употребляют выражение «лечь костьми». И они легли, как водится, и победили — то есть это была классическая русская победа, когда сначала играют от обороны, потом ложатся костьми, а потом вмешивается Бог, и мы побеждаем.
Думаю, они действительно никогда не видели такого футбола — вязкого, когда ты вроде все время владеешь инициативой, а сделать не можешь ничего. Несколько раз спасал Акинфеев, который выглядел главным героем матча задолго до решающих сейвов в финале. Всех восхитила жующая семья Гнатюков на трибунах. Они выглядели как языческие колдуны, шаманы, которые не просто кушали, а приносили священную жертву божествам своего таинственного, особого футбола. Они ели, и у испанцев ничего не получалось. Они жевали с тем же каменным механическим терпением, с которым сборная России, согласно тренерской установке, перетерпевала матч. И она дотерпела до дополнительного времени, когда в Москве усилился ливень и стало ясно, что пробить эту стену судьбы Испания не сможет. Она так и будет от нее отскакивать, а там, где начнет решать случай, удача, как всегда, будет на стороне России. Но чтобы начал решать случай, нужно терпеть 120 минут и, как было сказано, ложиться костьми.
Законы композиции требуют ретардации, то есть замедления: что пьют испанцы во время боления? Как все нормальные люди, преимущественно пиво, иногда крафтовое, сервеса артесаналь, как это тут называется. Еще есть пиво «Эстрейа». Закусывается оно мелкими зелеными оливками, крупными креветками, осьминогом по-галисийски (с оливковым маслом и перцем). Но в дополнительное время они уже почти не пили и совсем не закусывали, а молодая пара рядом со мной даже взяла кофе. Им хотелось увидеть это чудо на трезвую голову, потому что на их памяти Бог еще никогда так явно не вмешивался в судьбы мира.

Перед пенальти было уже ясно, что Россия выиграет, потому что Медведев проснулся и встал. В чутье ему никто еще не отказывал. Решалась, возможно, и его собственная судьба: его фактически принесли в жертву, послали на прорыв, а он опять выкарабкался и, скорее всего, будет преемником. Во всяком случае итог матча я понял именно так, и не зря Светлана Медведева так прыгала после первого нашего гола. Когда Акинфеев дважды спас ворота — последний рывок ногой войдет в историю и вполне может принести ему звание героя России, поскольку этот победный жест уже сравнивают с полетом Гагарина, — испанцы аплодировали страстно, но тихо. Им не хотелось слишком громкими эмоциями оскорблять божественное вмешательство. Победу российской сборной они встретили стоя. Я не удивился бы, если бы весь бар встал на колени. Победил Тот, с Кем спорить еще бессмысленней, чем с судьей. Видимо, он действительно за нас.
Я сидел, замаскировавшись для объективности, — черные очки, малиновый загар, пончо, сомбреро. Но случилось то, чего я боялся: один испанец подсел ко мне за столик и стал рассказывать, что Путин велик.
— У Путина стальные, совершенно стальные, хомбре, — говорил он мне на чистом испанском, а моя переводчица, знающая только испанский и английский, переводила на чистый английский, чтобы я понял. — Он навел порядок в России и наведет его в Европе. Ты увидишь. Путин — это то, что нужно. Путину сопутствует удача во всем. Многие испанцы отдали бы руку, да что там, многие отдали бы pene , чтобы в Испании была такая власть.
Про pene я понял. Я не понимал только, почему он рассказывает это мне.
— Скажите ему, что я русская оппозиция и этот испанец напрасно тратит силы, — попросил я переводчицу. Хотя в этот момент я совсем не был оппозицией. Я был таким же восхищенным свидетелем русского стиля, который может нравиться или не нравиться, но возражений не допускает, как всякий автобус.
— Ты русский?! — спросил он на чистом русском.
— Ты русский?! — переспросил я почему-то по-английски и снял очки.
Мы в ужасе посмотрели друг другу в глаза и разошлись.
Дмитрий Быков,
Барселона.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2018.